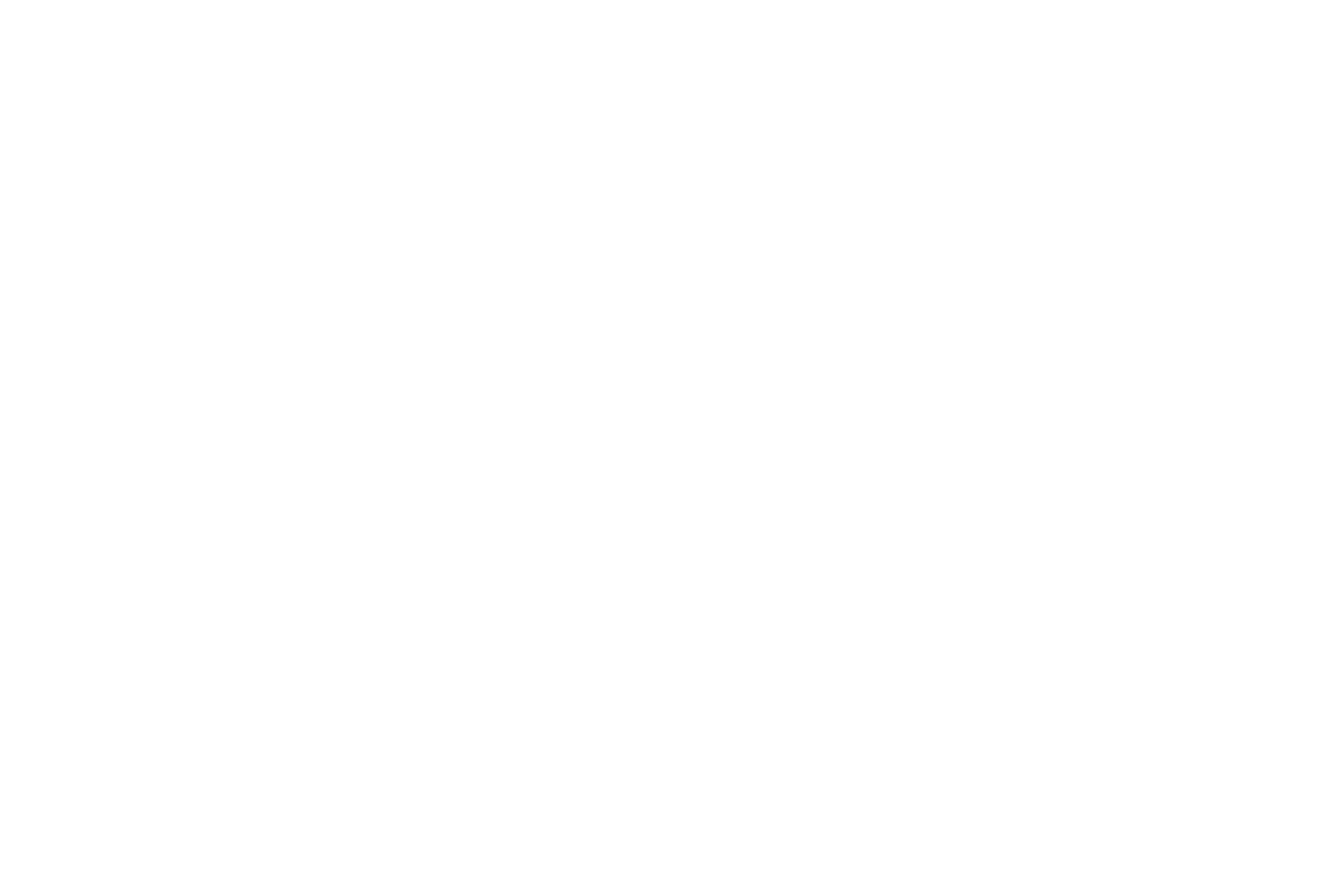
Как стать писателем? Пошаговое руководство.
«Пиши резво, редактируй рьяно» — не столько учебник по литературному мастерству (этого добра и так хватает), сколько очаровательная, умная, смешная и очень живая книга, способная поднять с дивана, расшевелить и вдохновить на писательские подвиги даже самого завзятого прокрастинатора».
Галина Юзефович
Литературный обозреватель Meduza
Галина Юзефович
Литературный обозреватель Meduza
диалоги
«Творчество – никакая не сублимация»
Марина Голубицкая, автор романа «Два писателя, или Ключи от чердака», рассказала «Хемингэуй позвонит» об ожоге творчеством, писательстве как внутренней биологической потребности и пути, который предопределен.
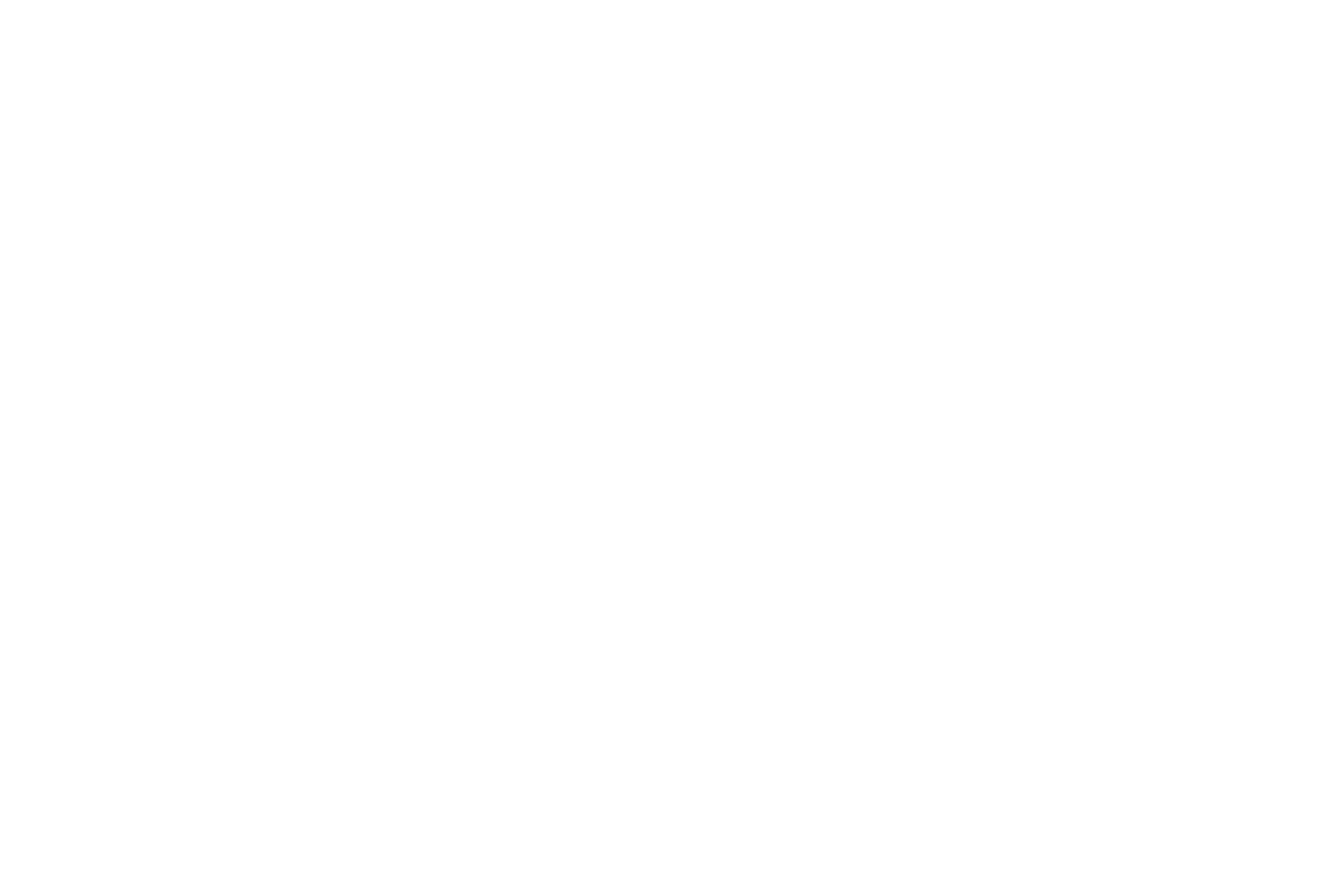
Марина Голубицкая, писатель
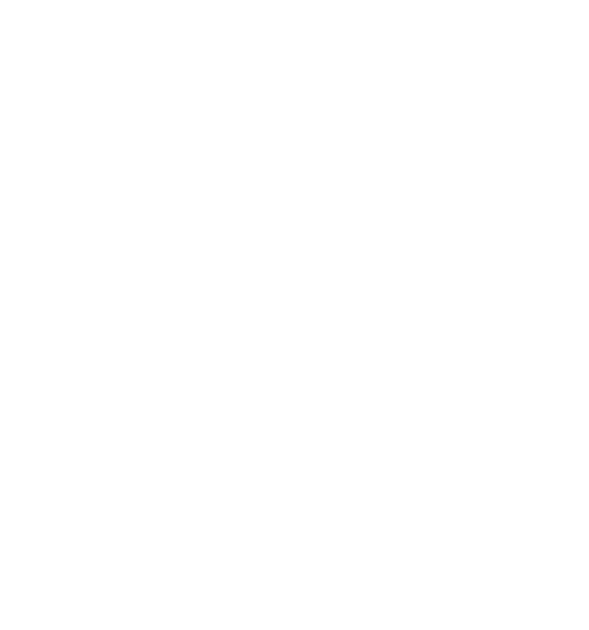
Марина Голубицкая. «Два писателя, или Ключи от чердака
», Русистика, 2022
», Русистика, 2022
Как вы пишете?
Прежде всего что-то должно меня задеть, вдохновить, разозлить или растрогать. Все исходит из желания с чем-то разобраться. Когда этот импульс возникает, я сажусь за компьютер и начинаю выстукивать слова. И в какой-то момент этот импульс становится текстом.
Вы всегда хотели стать писателем?
Нет, я бы так не сказала. Да, мне с детства было любопытно, как пишутся книги. Помню, впервые взяла в руки Чехова и заглядывала в комментарии в конце тома, хотела узнать, как каждый рассказ выглядел в черновике и в первой редакции, какие слова были изначально и каким текст стал после редактуры. Поиск точного слова — меня это всегда интересовало. Но писателем я не мечтала стать. Ребенком я любила фантазировать. Любила школьные сочинения. Мое, восьмиклассницы, сочинение про Чацкого учительница зачитывала десятиклассникам как пример отличного текста. Я всегда писала с удовольствием. Однажды прочла, что Ленин писал свои статьи карандашом, а потом долго и скрупулезно правил. И тогда я тоже стала точить карандаши, строчить пространные черновики, а после их черкать. Мне очень нравилась эта работа. А вот музыкой, например, мне не хотелось заниматься. Садилась за пианино и в теле начиналось неприятное покалывание. Меня раздражали занятия музыкой. А работа с текстами — нет. И еще я всегда любила математику.
Правда, тут приключилась такая история: когда я перевелась в физмат школу, учительница литературы стала ставить мне тройки по сочинению. Я никак не могла понять, в чем дело. Мне же до этого ставили только пятерки! Я все делала «правильно», по учебникам, а новая учительница требовала с первых же строк брать быка за рога. «Причем тут, где родился писатель? — говорила она. — Расскажите, о чем этот текст». Помню одну из тем: «Наташа Ростова как нравственный и эстетический идеал Толстого (по эпилогу)». И нужно с первых строк излагать свои мысли. Непривычно – но тогда я впервые получила даже не пять, а пять с плюсом. Я очень благодарна учительнице и этому опыту, который, без сомнения, помог мне в писательской судьбе. Об этом я написала свою первую книгу — «Вот и вся любовь».
Насколько вам сейчас проще писать по сравнению с тем, когда вы начинали? Или может быть сложнее?
В каком-то смысле проще. Сейчас я осознанней наблюдаю за своими эмоциями, когда пишу. Профессиональнее оттачиваю текст. С другой стороны, стало сложнее получить тот самый первоначальный посыл, становящийся импульсом к письму.
Прежде всего что-то должно меня задеть, вдохновить, разозлить или растрогать. Все исходит из желания с чем-то разобраться. Когда этот импульс возникает, я сажусь за компьютер и начинаю выстукивать слова. И в какой-то момент этот импульс становится текстом.
Вы всегда хотели стать писателем?
Нет, я бы так не сказала. Да, мне с детства было любопытно, как пишутся книги. Помню, впервые взяла в руки Чехова и заглядывала в комментарии в конце тома, хотела узнать, как каждый рассказ выглядел в черновике и в первой редакции, какие слова были изначально и каким текст стал после редактуры. Поиск точного слова — меня это всегда интересовало. Но писателем я не мечтала стать. Ребенком я любила фантазировать. Любила школьные сочинения. Мое, восьмиклассницы, сочинение про Чацкого учительница зачитывала десятиклассникам как пример отличного текста. Я всегда писала с удовольствием. Однажды прочла, что Ленин писал свои статьи карандашом, а потом долго и скрупулезно правил. И тогда я тоже стала точить карандаши, строчить пространные черновики, а после их черкать. Мне очень нравилась эта работа. А вот музыкой, например, мне не хотелось заниматься. Садилась за пианино и в теле начиналось неприятное покалывание. Меня раздражали занятия музыкой. А работа с текстами — нет. И еще я всегда любила математику.
Правда, тут приключилась такая история: когда я перевелась в физмат школу, учительница литературы стала ставить мне тройки по сочинению. Я никак не могла понять, в чем дело. Мне же до этого ставили только пятерки! Я все делала «правильно», по учебникам, а новая учительница требовала с первых же строк брать быка за рога. «Причем тут, где родился писатель? — говорила она. — Расскажите, о чем этот текст». Помню одну из тем: «Наташа Ростова как нравственный и эстетический идеал Толстого (по эпилогу)». И нужно с первых строк излагать свои мысли. Непривычно – но тогда я впервые получила даже не пять, а пять с плюсом. Я очень благодарна учительнице и этому опыту, который, без сомнения, помог мне в писательской судьбе. Об этом я написала свою первую книгу — «Вот и вся любовь».
Насколько вам сейчас проще писать по сравнению с тем, когда вы начинали? Или может быть сложнее?
В каком-то смысле проще. Сейчас я осознанней наблюдаю за своими эмоциями, когда пишу. Профессиональнее оттачиваю текст. С другой стороны, стало сложнее получить тот самый первоначальный посыл, становящийся импульсом к письму.
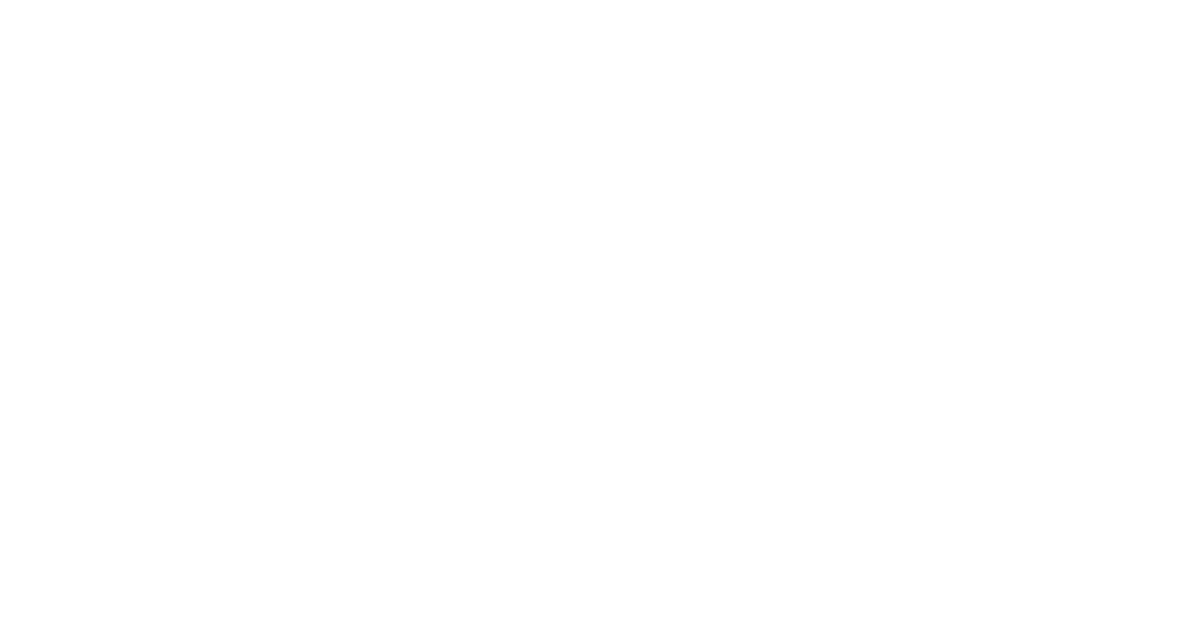
«Два писателя или ключи от чердака». Фрагмент
Сначала появилась журналистка. Правда, тогда она ра-ботала кем-то другим, но сейчас-то я знаю, что она жур-налистка. Она очень хотела понравиться моему мужу. Свой муж у нее был в Москве, он учился на Высших режис-серских курсах. Своему мужу она помогала. Ей хотелось, чтоб он стал кинорежиссером, и тогда бы ей не пришлось одеваться в платья из бильярдного сукна, списанного
в театральном училище. Она бы писала ему сценарии, снималась в фильмах, может быть, даже в главных ролях — все говорили, что она сошла с полотен Модильяни.
У нас были разные весовые категории. Сначала я во-обще была беременна, но это никого не смущало. Буду-щая журналистка жила недалеко, всего-то в трех квар-талах, и прибегала к нам, как к соседям по общежитию, то за луком, то за конвертом, хотя и почта, и овощной были поблизости. Лёня радовался: «Проходи, раздевайся». Она скидывала дубленку, застегнутую на две разнокалиберные пуговицы, и оказывалась вполне раздетой — мы могли вдо-воль любоваться натурой через редкое плетение пряжи, истерзанной ее творческими исканиями. Этих ниток едва хватило бы на берет, но Фаинкины грациозные пальчики постоянно сплетали дырочки в новом порядке, то пол-ностью оголяя спину, то распределяя обнаженность рав-номерно по всей верхней части ее невеликого тела. Она всегда что-нибудь приносила: конфетку дочке, журналь-чик мужу, мне — новый повод для терзаний и мужниных утешений: «А ты хочешь, чтоб вокруг нас была выжженная земля?»
Однажды она принесла свои тексты, полуслепые ма-шинописные копии. Ее мужу был нужен сценарий для кур-совой, моему — вера в собственные таланты. Это и стало причиной частых встреч: мой муж с журналисткой писали сценарий. Мы оставили в МГУ нашу юность, наших друзей
и здесь, на уральской почве, пытались отрастить что-то за-ново. Один друг был любимым и лучшим, он тоже пытался прижиться — далеко, на южном балконе. Из его экстра-вагантных поступков мой муж с журналисткой и ваяли сюжет, но не могли придумать финал. Фаина уже делала за своего мужа сценарную разработку, считалось, что она понимает в кино и умеет писать.
Первый текст был трогательный, явно женский. О том, как в столовой, в очереди, пропахшей стылым супом, девушка ставит тарелки на грязный поднос и вспомина-ет маму — в чистой кухне накануне праздника. Мама выни-мает из духовки противни с печеньем, противни с коржа-ми для торта, ставит их прямо на пол, заполняя все вокруг печеным и сладким, насыщая квартиру запахами ванили, запахами корицы... Я знала, что мама у журналистки умер-ла и что она содержит сына-школьника и мужа-студента.
Второй текст удивил меня так, как удивлял обычно лишь друг, которого они заталкивали в свой сценарий. Этот текст был про придуманную рыбку. О том, как она отличается от непридуманной, о ее сказочно-несбыточ-ной жизни. Она может кататься в каретах. Шептаться на балах. Отмечать дни рождения! Текст уводил к како-му-то сторожу на даче, был легким, свободным, мастер-ским, непохожим на перевязанные кофты.
— Как ты меня поразила, Фаинка! Я никак не ожидала, никак... — закудахтала я при встрече.
— Да? А что? — она, как всегда, разговаривала с зер-калом в прихожей. Разглядывала лямочки на спине, кото-рые только вчера смастерила из тесемки.
— Этот рассказ про рыбку...
— Да? Тебе понравился? — она окинула меня взглядом с головы до ног.
Я уже родила и одевалась в зависимости от прихотей те-плоцентрали. Я могла быть в халатике с выдирающимися пуговицами, с жирными пятнами просочившегося моло-ка. А может, в тот день на мне были шерстяные рейтузы, захватанные ручонками в манной каше, рейтузы и байко-вая рубашка, — Фаина никогда не предупреждала о визи-тах. Запылали, заалели мои щеки, но я простила ей этот взгляд: придуманной рыбке все позволено.
— Ты такая талантливая! Я не думала... Не ожидала, что ты так можешь.
Она повела бровью, будто дернула губку за уголок, стрельнула глазками:
— Я еще и не то могу...
в театральном училище. Она бы писала ему сценарии, снималась в фильмах, может быть, даже в главных ролях — все говорили, что она сошла с полотен Модильяни.
У нас были разные весовые категории. Сначала я во-обще была беременна, но это никого не смущало. Буду-щая журналистка жила недалеко, всего-то в трех квар-талах, и прибегала к нам, как к соседям по общежитию, то за луком, то за конвертом, хотя и почта, и овощной были поблизости. Лёня радовался: «Проходи, раздевайся». Она скидывала дубленку, застегнутую на две разнокалиберные пуговицы, и оказывалась вполне раздетой — мы могли вдо-воль любоваться натурой через редкое плетение пряжи, истерзанной ее творческими исканиями. Этих ниток едва хватило бы на берет, но Фаинкины грациозные пальчики постоянно сплетали дырочки в новом порядке, то пол-ностью оголяя спину, то распределяя обнаженность рав-номерно по всей верхней части ее невеликого тела. Она всегда что-нибудь приносила: конфетку дочке, журналь-чик мужу, мне — новый повод для терзаний и мужниных утешений: «А ты хочешь, чтоб вокруг нас была выжженная земля?»
Однажды она принесла свои тексты, полуслепые ма-шинописные копии. Ее мужу был нужен сценарий для кур-совой, моему — вера в собственные таланты. Это и стало причиной частых встреч: мой муж с журналисткой писали сценарий. Мы оставили в МГУ нашу юность, наших друзей
и здесь, на уральской почве, пытались отрастить что-то за-ново. Один друг был любимым и лучшим, он тоже пытался прижиться — далеко, на южном балконе. Из его экстра-вагантных поступков мой муж с журналисткой и ваяли сюжет, но не могли придумать финал. Фаина уже делала за своего мужа сценарную разработку, считалось, что она понимает в кино и умеет писать.
Первый текст был трогательный, явно женский. О том, как в столовой, в очереди, пропахшей стылым супом, девушка ставит тарелки на грязный поднос и вспомина-ет маму — в чистой кухне накануне праздника. Мама выни-мает из духовки противни с печеньем, противни с коржа-ми для торта, ставит их прямо на пол, заполняя все вокруг печеным и сладким, насыщая квартиру запахами ванили, запахами корицы... Я знала, что мама у журналистки умер-ла и что она содержит сына-школьника и мужа-студента.
Второй текст удивил меня так, как удивлял обычно лишь друг, которого они заталкивали в свой сценарий. Этот текст был про придуманную рыбку. О том, как она отличается от непридуманной, о ее сказочно-несбыточ-ной жизни. Она может кататься в каретах. Шептаться на балах. Отмечать дни рождения! Текст уводил к како-му-то сторожу на даче, был легким, свободным, мастер-ским, непохожим на перевязанные кофты.
— Как ты меня поразила, Фаинка! Я никак не ожидала, никак... — закудахтала я при встрече.
— Да? А что? — она, как всегда, разговаривала с зер-калом в прихожей. Разглядывала лямочки на спине, кото-рые только вчера смастерила из тесемки.
— Этот рассказ про рыбку...
— Да? Тебе понравился? — она окинула меня взглядом с головы до ног.
Я уже родила и одевалась в зависимости от прихотей те-плоцентрали. Я могла быть в халатике с выдирающимися пуговицами, с жирными пятнами просочившегося моло-ка. А может, в тот день на мне были шерстяные рейтузы, захватанные ручонками в манной каше, рейтузы и байко-вая рубашка, — Фаина никогда не предупреждала о визи-тах. Запылали, заалели мои щеки, но я простила ей этот взгляд: придуманной рыбке все позволено.
— Ты такая талантливая! Я не думала... Не ожидала, что ты так можешь.
Она повела бровью, будто дернула губку за уголок, стрельнула глазками:
— Я еще и не то могу...
Сейчас я осознанней наблюдаю за своими эмоциями, когда пишу. Профессиональнее оттачиваю текст.
С другой стороны, стало сложнее получить тот самый первоначальный посыл, становящийся импульсом
к письму.
С другой стороны, стало сложнее получить тот самый первоначальный посыл, становящийся импульсом
к письму.
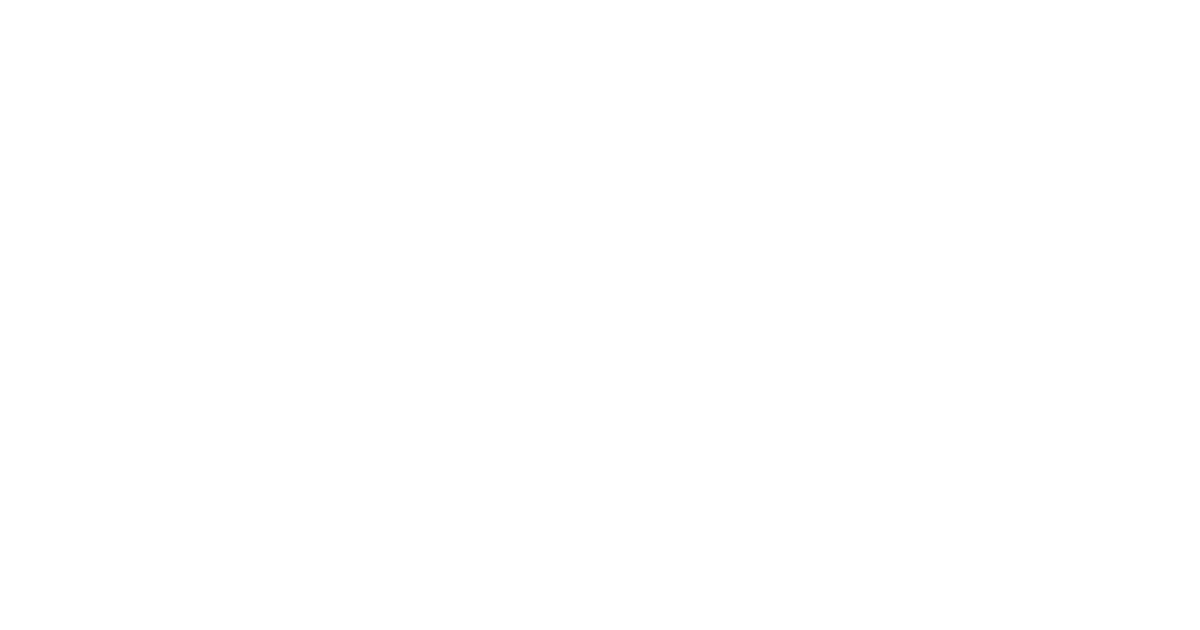
Ушла эйфория?
Скорее, появились ожидания. Для меня теперь важно найти читателя, которому книга будет нужна и интересна.
То есть, вы пишите для какого-то одного читателя?
Я знаю, что читатель у меня не один. Но в целом да — для небольшого круга людей. Мне подруга как-то сказала, когда мы сплетничали об общих знакомых: «Маринка, давай признаемся себе: таких как мы — 10%».
Писателей?
Людей. Таких людей, как мы — очень мало. Вот что она хотела сказать.
Каких — «таких»?
С ироничным отношением к жизни, с любовью к творчеству (пусть даже в домашнем хозяйстве), и... со стремлением образовываться. Это может прозвучать высокомерно, но я действительно чувствую, что нас немного. Конечно, у всех неодинаковый опыт и неодинаковое образование. Пусть читатель не узнает в моем тексте цитату, но догадается, что она есть. Это важно. Я пишу именно для таких людей. Тех, кто поймет, какие смыслы я вкладываю в текст. Все ведь читают по-разному. Считывают разные слои. Хотя и всяких других людей немного. Еще каких-то 10%. И еще, и еще…
Книга — это труд писателя, который он вкладывает в текст. Но и труд читателя, необходимый, чтобы уловить все смыслы. Читатель ведь тоже должен приложить усилие, чтобы понять, о чем текст. Поэтому я спрошу о романе «Два писателя, Или ключи от чердака». Как вы считаете, этот текст сложен для восприятия? Требует ли он серьезного усилия читателя?
Я стараюсь писать легко, да и истории рассказываю несложные. В детстве я много читала. Гордилась, что в шестом классе прочла «Марию Стюарт» Стефана Цвейга, где нет ни одной строчки прямой речи. Текст, где не было разговоров, был очень трудным для восприятия. Ведь прямую речь читать гораздо проще, чем, например, рассуждения Толстого о войне, обществе и тому подобное. И для меня осталось важным, чтобы читатель не начал зевать в процессе чтения и бороться с желанием захлопнуть книгу. Но я не считаю, что надо писать упрощенно.
Взять, например, «Имя Розы» Умберто Эко. Ты читаешь описание фронтона на соборе, там метафора занимает целую страницу. И только в самом конце понимаешь, что речь идет о хвосте обезьяны или лиане — я уже не помню точно. Ты как читатель сталкиваешься с огромным объемом информации и вынужден все это представить. Это требует особых усилий. Я не говорю, что это плохие тексты — мы же их читаем и нам нравится, Эко признанный гений. Но я другая. Я стараюсь говорить просто, передавая какие-то, казалось бы, повседневные разговоры, но за каждым скрывается надтекстовый смысл. Кажется, что я пишу: «ля-ля-ля-ля, тра-та-та». Но всегда есть второе дно.
Вам было сложно писать «Два писателя, или Ключи от чердака»?
В какой-то момент я вдруг осознала: надо же, я пишу роман. Но потом подумала: никакой это не роман. Позже я прочитала, как работал Достоевский, как он писал «крупную форму». «Бесы» — величайший текст, всем детективам даст сто очков форы. Хотя, конечно, к Достоевскому у меня свои претензии: это сумасшедшее сочетание сладкого с горьким — остросюжетности, философской мысли, глубины переживаний... некоторые вещи я просто физически не могу дочитать. Потому, что я уже не в состоянии вникать в то, что Иван о боге думает, я хочу узнать, что с Митей будет! Когда Достоевский писал, у него были планы, разработки, замечательно, что они сохранились (за исключением «Игрока», но с ним ведь другая история). И я поняла, что пишу совершенно иначе. Не по правилам. Писать было сложно, но интересно. Работа шла много лет, в несколько этапов. Первый вариант, журнальная публикация. Неприятие своего текста. Новая редактура. И вот я снова что-то пишу.
А как вы пиcали этот текст?
У меня не было никакого плана, но я выкладывала свои мысли и впечатления на бумагу, материала было очень много. Я рассказывала историю с разных сторон, позволяя себе множество флэшбэков и ответвлений. Но я же автор, я знала, к чему веду, к тому же математик, мне нетрудно удерживать в голове много данных, а читателю могло быть нелегко «следить за темой». И в журнальном варианте мне свой роман не понравился. Я открывала его и тут же захлопывала. Будто выткала хорошую ткань, но неправильно ее скроила. Потом роман отлежался, и я многое выкинула. Убрала ненужные ретроспективы и все, что затрудняет восприятие текста. Выстроила линейный сюжет. Хотя в жизни я мыслю совершенно иначе.
Скорее, появились ожидания. Для меня теперь важно найти читателя, которому книга будет нужна и интересна.
То есть, вы пишите для какого-то одного читателя?
Я знаю, что читатель у меня не один. Но в целом да — для небольшого круга людей. Мне подруга как-то сказала, когда мы сплетничали об общих знакомых: «Маринка, давай признаемся себе: таких как мы — 10%».
Писателей?
Людей. Таких людей, как мы — очень мало. Вот что она хотела сказать.
Каких — «таких»?
С ироничным отношением к жизни, с любовью к творчеству (пусть даже в домашнем хозяйстве), и... со стремлением образовываться. Это может прозвучать высокомерно, но я действительно чувствую, что нас немного. Конечно, у всех неодинаковый опыт и неодинаковое образование. Пусть читатель не узнает в моем тексте цитату, но догадается, что она есть. Это важно. Я пишу именно для таких людей. Тех, кто поймет, какие смыслы я вкладываю в текст. Все ведь читают по-разному. Считывают разные слои. Хотя и всяких других людей немного. Еще каких-то 10%. И еще, и еще…
Книга — это труд писателя, который он вкладывает в текст. Но и труд читателя, необходимый, чтобы уловить все смыслы. Читатель ведь тоже должен приложить усилие, чтобы понять, о чем текст. Поэтому я спрошу о романе «Два писателя, Или ключи от чердака». Как вы считаете, этот текст сложен для восприятия? Требует ли он серьезного усилия читателя?
Я стараюсь писать легко, да и истории рассказываю несложные. В детстве я много читала. Гордилась, что в шестом классе прочла «Марию Стюарт» Стефана Цвейга, где нет ни одной строчки прямой речи. Текст, где не было разговоров, был очень трудным для восприятия. Ведь прямую речь читать гораздо проще, чем, например, рассуждения Толстого о войне, обществе и тому подобное. И для меня осталось важным, чтобы читатель не начал зевать в процессе чтения и бороться с желанием захлопнуть книгу. Но я не считаю, что надо писать упрощенно.
Взять, например, «Имя Розы» Умберто Эко. Ты читаешь описание фронтона на соборе, там метафора занимает целую страницу. И только в самом конце понимаешь, что речь идет о хвосте обезьяны или лиане — я уже не помню точно. Ты как читатель сталкиваешься с огромным объемом информации и вынужден все это представить. Это требует особых усилий. Я не говорю, что это плохие тексты — мы же их читаем и нам нравится, Эко признанный гений. Но я другая. Я стараюсь говорить просто, передавая какие-то, казалось бы, повседневные разговоры, но за каждым скрывается надтекстовый смысл. Кажется, что я пишу: «ля-ля-ля-ля, тра-та-та». Но всегда есть второе дно.
Вам было сложно писать «Два писателя, или Ключи от чердака»?
В какой-то момент я вдруг осознала: надо же, я пишу роман. Но потом подумала: никакой это не роман. Позже я прочитала, как работал Достоевский, как он писал «крупную форму». «Бесы» — величайший текст, всем детективам даст сто очков форы. Хотя, конечно, к Достоевскому у меня свои претензии: это сумасшедшее сочетание сладкого с горьким — остросюжетности, философской мысли, глубины переживаний... некоторые вещи я просто физически не могу дочитать. Потому, что я уже не в состоянии вникать в то, что Иван о боге думает, я хочу узнать, что с Митей будет! Когда Достоевский писал, у него были планы, разработки, замечательно, что они сохранились (за исключением «Игрока», но с ним ведь другая история). И я поняла, что пишу совершенно иначе. Не по правилам. Писать было сложно, но интересно. Работа шла много лет, в несколько этапов. Первый вариант, журнальная публикация. Неприятие своего текста. Новая редактура. И вот я снова что-то пишу.
А как вы пиcали этот текст?
У меня не было никакого плана, но я выкладывала свои мысли и впечатления на бумагу, материала было очень много. Я рассказывала историю с разных сторон, позволяя себе множество флэшбэков и ответвлений. Но я же автор, я знала, к чему веду, к тому же математик, мне нетрудно удерживать в голове много данных, а читателю могло быть нелегко «следить за темой». И в журнальном варианте мне свой роман не понравился. Я открывала его и тут же захлопывала. Будто выткала хорошую ткань, но неправильно ее скроила. Потом роман отлежался, и я многое выкинула. Убрала ненужные ретроспективы и все, что затрудняет восприятие текста. Выстроила линейный сюжет. Хотя в жизни я мыслю совершенно иначе.
Писать было сложно, но интересно. Работа шла много лет, в несколько этапов. Первый вариант, журнальная публикация. Неприятие своего текста. Новая редактура. И вот я снова что-то пишу.
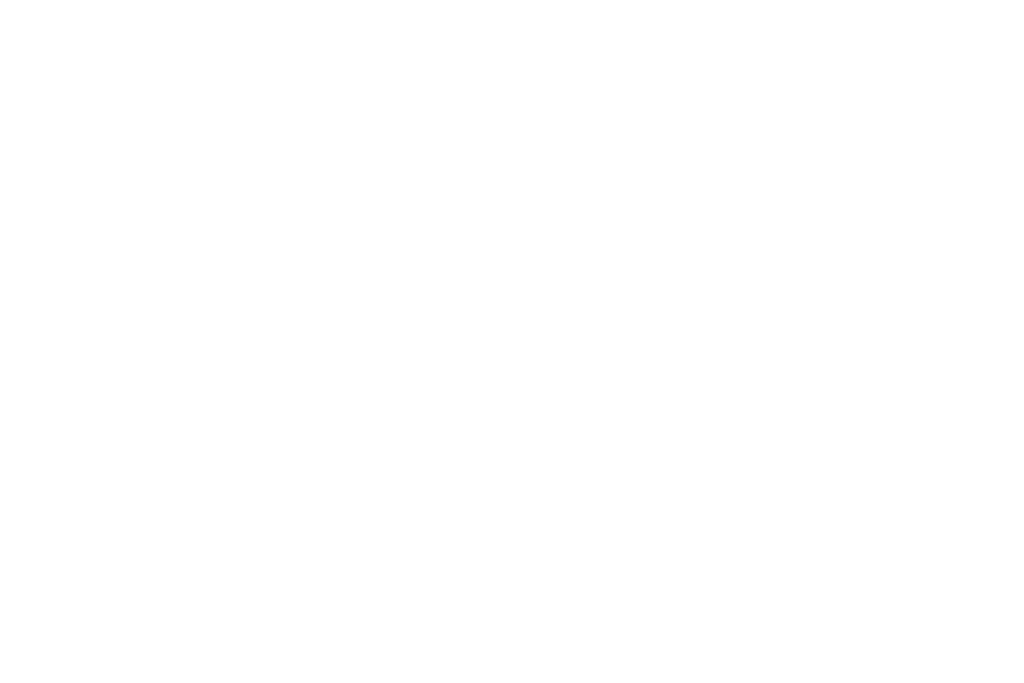
Марина Голубицкая, встреча с читателями
Сложно было выбрасывать? Редактура — важная составляющая работы с текстом. Вам легко дается этот этап?
Мне нравилось редактировать, я получала удовольствие – ведь я двадцать лет на это решалась! И выкидывала целые куски без сожаления, понимая, что они не имеют отношения к повествованию. Например, в журнальной версии романа был эпизод, где Евтушенко проводит героиню на концерт Вознесенского. Вознесенский на пике славы — билетов не достать и не купить, конная милиция, ЦДЛ, ажиотаж. Героиня увидела Евтушенко, прицепилась к нему и попросилась провести. Да, это очень эмоциональный, красочный материал, но не имеющий отношения к сюжетной линии романа. Мало ли что в жизни происходит интересного? Надо отсекать лишнее — мне стало просто это делать, когда я окончательно поняла, о чем текст, я удалила из романа все лишнее.
И о чем же он?
В нем есть важная сюжетная линия. Женщина увлеклась мужчиной, влюбилась. По факту получилось, что у героини с объектом роман был, а у него с героиней не было.
То есть этот роман о неразделенной любви?
В некотором смысле. Это текст не о чувственном влечении, не о страсти. О том, как себя чувствует женщина, которую влечет к мужчине, хотя с самого начала ясно, что ничего, в принципе, получиться не может.
Почему?
В тексте есть такие слова: «Отбросим ту несущественную деталь, что я была замужем и любила мужа, что Чмутов был женат и, по слухам, любил жену. Кого и когда это останавливало? Три дочери, уже теплее, я не хотела бы перед ними краснеть. И еще я берегла свое сердце, боялась его разбить, ведь все романы когда-то кончаются. Знала, что Чмутов — бабник и трепло и что он рассказывает про своих женщин по всему городу». На самом деле, героиня любит мужа, но он очень занят работой. И ей кажется, что когда муж так занят, развлекаться нечестно.
Получается, что это роман об одиночестве и о замещении — когда женщине нужно внимание, а она его не получает, она его пытается найти это внимание где-то еще? Может быть текст об этом?
То, что женщина не получает внимания с тех пор, как она становится матерью — это очевидно. Не потому, что, как говорят, располнела, за собой не следит. Нет, не поэтому. Все дело в том, куда женщина направляет свое внимание.
Тогда получается, что это роман о внутреннем конфликте женщины, в которой есть противостояние роли матери и роли женщины, которая хочет быть желанной?
Нет. Это на самом не так важно.
Но почему женщина престает бы женщиной?
Все дело в поиске внутренней свободы — и вот об этом текст. Героиня не перестает быть женщиной. Конечно же, мало какой женщине хватает женского, если у нее есть семейные обязательства. Не в том смысле, что она должна хранить верность. Никто не сказал, что флирт нужно доводить до постели. Личное дело каждого — как решать этот вопрос, здесь нет никаких рецептов. Дело даже не в том, что дети мешают. А в том, что ты всегда не одна. Нехватка внутренней свободы. И получить ее можно, например, в творчестве. Так что в итоге получается текст о романе с творчеством, дающим ту свободу, которой так не хватает героине.
Творчество дает то, чего не дает социум? То есть конфликт героини в потребности обретения свободы, которое героиня не может себе позволить получить?
Не стоит рассматривать творчество как сублимацию, потому что в действительности — творчество никакая не сублимация, а такая же жизненная потребность, как потребность некоторых людей танцевать, петь или заниматься музыкой. Мне совершенно не нравится смотреть на видео, как я танцую, но у меня нередко возникает потребность танцевать.
Танец как освобождение?
Сложно сказать. Петь, смеяться, танцевать — это мои потребности. Есть потребности осмысливать что-то и обдумывать, хотя я не собираюсь это записывать и превращать в текст. У Гумилёва есть стихотворение «Шестое чувство» про вечное желание выражать свои чувства. Нет, творчество — это не сублимация. И не психотерапия. Сейчас психологи поголовно советуют: пережил любовную драму — опиши. Но нет же, писать тексты — это просто потребность. Тебе не психотерапевт говорит: пиши. Ты сам это делаешь, потому что не можешь иначе. Кто-то музыку пишет, кто-то лепит из глины, кто-то выстругивает лодку. Текст — это одна из потребностей человека.
Мне нравилось редактировать, я получала удовольствие – ведь я двадцать лет на это решалась! И выкидывала целые куски без сожаления, понимая, что они не имеют отношения к повествованию. Например, в журнальной версии романа был эпизод, где Евтушенко проводит героиню на концерт Вознесенского. Вознесенский на пике славы — билетов не достать и не купить, конная милиция, ЦДЛ, ажиотаж. Героиня увидела Евтушенко, прицепилась к нему и попросилась провести. Да, это очень эмоциональный, красочный материал, но не имеющий отношения к сюжетной линии романа. Мало ли что в жизни происходит интересного? Надо отсекать лишнее — мне стало просто это делать, когда я окончательно поняла, о чем текст, я удалила из романа все лишнее.
И о чем же он?
В нем есть важная сюжетная линия. Женщина увлеклась мужчиной, влюбилась. По факту получилось, что у героини с объектом роман был, а у него с героиней не было.
То есть этот роман о неразделенной любви?
В некотором смысле. Это текст не о чувственном влечении, не о страсти. О том, как себя чувствует женщина, которую влечет к мужчине, хотя с самого начала ясно, что ничего, в принципе, получиться не может.
Почему?
В тексте есть такие слова: «Отбросим ту несущественную деталь, что я была замужем и любила мужа, что Чмутов был женат и, по слухам, любил жену. Кого и когда это останавливало? Три дочери, уже теплее, я не хотела бы перед ними краснеть. И еще я берегла свое сердце, боялась его разбить, ведь все романы когда-то кончаются. Знала, что Чмутов — бабник и трепло и что он рассказывает про своих женщин по всему городу». На самом деле, героиня любит мужа, но он очень занят работой. И ей кажется, что когда муж так занят, развлекаться нечестно.
Получается, что это роман об одиночестве и о замещении — когда женщине нужно внимание, а она его не получает, она его пытается найти это внимание где-то еще? Может быть текст об этом?
То, что женщина не получает внимания с тех пор, как она становится матерью — это очевидно. Не потому, что, как говорят, располнела, за собой не следит. Нет, не поэтому. Все дело в том, куда женщина направляет свое внимание.
Тогда получается, что это роман о внутреннем конфликте женщины, в которой есть противостояние роли матери и роли женщины, которая хочет быть желанной?
Нет. Это на самом не так важно.
Но почему женщина престает бы женщиной?
Все дело в поиске внутренней свободы — и вот об этом текст. Героиня не перестает быть женщиной. Конечно же, мало какой женщине хватает женского, если у нее есть семейные обязательства. Не в том смысле, что она должна хранить верность. Никто не сказал, что флирт нужно доводить до постели. Личное дело каждого — как решать этот вопрос, здесь нет никаких рецептов. Дело даже не в том, что дети мешают. А в том, что ты всегда не одна. Нехватка внутренней свободы. И получить ее можно, например, в творчестве. Так что в итоге получается текст о романе с творчеством, дающим ту свободу, которой так не хватает героине.
Творчество дает то, чего не дает социум? То есть конфликт героини в потребности обретения свободы, которое героиня не может себе позволить получить?
Не стоит рассматривать творчество как сублимацию, потому что в действительности — творчество никакая не сублимация, а такая же жизненная потребность, как потребность некоторых людей танцевать, петь или заниматься музыкой. Мне совершенно не нравится смотреть на видео, как я танцую, но у меня нередко возникает потребность танцевать.
Танец как освобождение?
Сложно сказать. Петь, смеяться, танцевать — это мои потребности. Есть потребности осмысливать что-то и обдумывать, хотя я не собираюсь это записывать и превращать в текст. У Гумилёва есть стихотворение «Шестое чувство» про вечное желание выражать свои чувства. Нет, творчество — это не сублимация. И не психотерапия. Сейчас психологи поголовно советуют: пережил любовную драму — опиши. Но нет же, писать тексты — это просто потребность. Тебе не психотерапевт говорит: пиши. Ты сам это делаешь, потому что не можешь иначе. Кто-то музыку пишет, кто-то лепит из глины, кто-то выстругивает лодку. Текст — это одна из потребностей человека.
Но нет же, писать тексты — это просто потребность. Тебе не психотерапевт говорит: пиши. Ты сам это делаешь, потому что не можешь иначе.
То есть, мы, наконец-то, подходим к факту, что все-таки писатель — это некая врожденная предустановка?
Да, я думаю, что это так.
В таком случае ваша формулировка, что вы никогда не хотели быть писателем, немного противоречит сказанному.
Но я ведь и правда не хотела. И до сих пор не то чтобы очень хочу. И одновременно мне всегда было интересно: как это — сесть и начать писать. Может быть, дело в том, что когда я говорю «не хотела быть писателем», я вкладываю очень определенный смысл в само слово «писатель». Для меня писатель — это человек, который зарабатывает своим литературным трудом. Это человек, которого признали. Хотя кому-то даже этого мало. У меня есть знакомая, прирожденный «тролль», и она как-то разворчалась, мол сейчас все кому не лень называют себя композиторами. Она сказала это о моем друге, у которого в дипломе написано «композитор», который сочинил музыку к нескольким известным фильмам, чьи оперетты идут в театрах, и чью музыку, за исключением пары песен, она не слышала, так вот она сказала, что он никакой не композитор вообще. Для нее композиторы — это Моцарт и Чайковский.
Тогда может быть дело в том, что само слово «писатель» имеет у нас в стране очень большой вес?
Да, вы совершенно правы. Это очень правильная мысль. Поэт в России больше, чем поэт. И конечно писатель — это писатель с большой буквы. Чехов, Толстой, Достоевский. Мы рождены в такой культуре, и мы стали ее следствием. Когда люди в 90-е годы эмигрировали, многие перевозили с собой библиотеки. Друзей вывезти не могли, но книги были частью их мира. Сейчас другие времена, в моде разумное потребление, люди приобретают книги с осторожностью, лишнего покупать не хотят.
Может быть дело в том, что цифровые носители вытесняют классическую бумажную книгу.
Возможно. Хотя я и попросила своих детей подарить мне электронную «читалку» и вожу ее с собой, я все равно люблю бумажные книги.
Бумажная книга осязаема. У меня с собой толстенный роман Джонатана Франзена «Свобода». Я не могу читать «электронные книги».
Очень хорошо вас понимаю. У меня есть такой лозунг: «Лето – толстым книгам!»
Вы много читаете?
Сейчас меньше. Я очень много читала в детстве и юности. А теперь — нет. Мне сложно найти в современной литературе книги, которые меня «зацепят». Но если уж я нахожу такую книгу, я потеряна для мира. Но, конечно, читаю. Многое из того, что любимо и на слуху – «Похороните меня за плинтусом» – эту книжку когда-то скупала пачками и всем дарила, так же позже поступала с «Географом», который пропил глобус. «Петровых в гриппе», конечно, прочла. Из толстых книг - «Щегол», «Дом, в котором...», «Бегство из рая» Басинского.
Проблема с толстыми книгами в том, что лето — это время, когда собирается вся семья. А у меня восемь внуков. Роль бабушки и мамы все же важнее чтения.
Есть ли в этом некий внутренний конфликт? Или в вашем случае выбор в пользу семьи гармоничен?
Я не разрешаю себе отвернуться от семьи. Когда я работала над романом, да, я стала затворницей. Ходила с компьютером на пляж и все время писала. Я была, но меня не было. Пришло время обеда — позовите меня. Когда ты пишешь, нельзя отвлекаться. Это ведь не вязание, когда за спицами ты можешь смотреть телевизор или разговаривать с малышами. Вообще чтение — это свобода. Это счастье. Я обожала в детстве забраться с ногами в кресло и читать запоем. Папа знаете, что делал? Отодвигал шифоньер от стенки, ставил туда кресло и торшер. И говорил: «интерьерчик». Я обожала забираться в это кресло и читать — чтобы младшая сестра не мешала со своими танцами, и чтобы за хлебом не посылали. Это были моменты счастья, и они ушли. Сначала потому, что вместо книг в голове появились мальчики. Хотелось любви, романтики. А потом я вышла в реальный мир. Поступила на мехмат МГУ и с ужасом обнаружила, что за год прочла всего 3 толстых книги. «Мадам Бовари», «Анну Каренину» и «Дипломата» Джеймса Олдриджа.
Чем был продиктован выбор идти на мехмат?
Я всегда любила математику, я мечтала с детства стать ученым, мечтала постичь бесконечность Вселенной. Я хотела быть астрономом.
Откуда это желание пришло? Рядом была ролевая модель?
Папа, сидящий за письменным столом. Причем, он сидел спиной к семье, лицом к окну. Мой папа — довольно известный ученый-юрист. Он любил математику, но в школе у него была не очень хорошая учительница, и папа пошел на юридический. У меня были математические способности, папа их развивал. Мы вместе решали задачки, я это очень любила, потом стала решать лучше папы. Кстати, уже во взрослом возрасте поняла, что ребенку с математическими способности легко быть круче всех, да и реализовать их нетрудно. Кроме ручки и бумажки ничего не нужно – ни сцены, ни стадиона, ни инструмента. Ребенок, способный в математике, был в классе царь и бог.
Да, я думаю, что это так.
В таком случае ваша формулировка, что вы никогда не хотели быть писателем, немного противоречит сказанному.
Но я ведь и правда не хотела. И до сих пор не то чтобы очень хочу. И одновременно мне всегда было интересно: как это — сесть и начать писать. Может быть, дело в том, что когда я говорю «не хотела быть писателем», я вкладываю очень определенный смысл в само слово «писатель». Для меня писатель — это человек, который зарабатывает своим литературным трудом. Это человек, которого признали. Хотя кому-то даже этого мало. У меня есть знакомая, прирожденный «тролль», и она как-то разворчалась, мол сейчас все кому не лень называют себя композиторами. Она сказала это о моем друге, у которого в дипломе написано «композитор», который сочинил музыку к нескольким известным фильмам, чьи оперетты идут в театрах, и чью музыку, за исключением пары песен, она не слышала, так вот она сказала, что он никакой не композитор вообще. Для нее композиторы — это Моцарт и Чайковский.
Тогда может быть дело в том, что само слово «писатель» имеет у нас в стране очень большой вес?
Да, вы совершенно правы. Это очень правильная мысль. Поэт в России больше, чем поэт. И конечно писатель — это писатель с большой буквы. Чехов, Толстой, Достоевский. Мы рождены в такой культуре, и мы стали ее следствием. Когда люди в 90-е годы эмигрировали, многие перевозили с собой библиотеки. Друзей вывезти не могли, но книги были частью их мира. Сейчас другие времена, в моде разумное потребление, люди приобретают книги с осторожностью, лишнего покупать не хотят.
Может быть дело в том, что цифровые носители вытесняют классическую бумажную книгу.
Возможно. Хотя я и попросила своих детей подарить мне электронную «читалку» и вожу ее с собой, я все равно люблю бумажные книги.
Бумажная книга осязаема. У меня с собой толстенный роман Джонатана Франзена «Свобода». Я не могу читать «электронные книги».
Очень хорошо вас понимаю. У меня есть такой лозунг: «Лето – толстым книгам!»
Вы много читаете?
Сейчас меньше. Я очень много читала в детстве и юности. А теперь — нет. Мне сложно найти в современной литературе книги, которые меня «зацепят». Но если уж я нахожу такую книгу, я потеряна для мира. Но, конечно, читаю. Многое из того, что любимо и на слуху – «Похороните меня за плинтусом» – эту книжку когда-то скупала пачками и всем дарила, так же позже поступала с «Географом», который пропил глобус. «Петровых в гриппе», конечно, прочла. Из толстых книг - «Щегол», «Дом, в котором...», «Бегство из рая» Басинского.
Проблема с толстыми книгами в том, что лето — это время, когда собирается вся семья. А у меня восемь внуков. Роль бабушки и мамы все же важнее чтения.
Есть ли в этом некий внутренний конфликт? Или в вашем случае выбор в пользу семьи гармоничен?
Я не разрешаю себе отвернуться от семьи. Когда я работала над романом, да, я стала затворницей. Ходила с компьютером на пляж и все время писала. Я была, но меня не было. Пришло время обеда — позовите меня. Когда ты пишешь, нельзя отвлекаться. Это ведь не вязание, когда за спицами ты можешь смотреть телевизор или разговаривать с малышами. Вообще чтение — это свобода. Это счастье. Я обожала в детстве забраться с ногами в кресло и читать запоем. Папа знаете, что делал? Отодвигал шифоньер от стенки, ставил туда кресло и торшер. И говорил: «интерьерчик». Я обожала забираться в это кресло и читать — чтобы младшая сестра не мешала со своими танцами, и чтобы за хлебом не посылали. Это были моменты счастья, и они ушли. Сначала потому, что вместо книг в голове появились мальчики. Хотелось любви, романтики. А потом я вышла в реальный мир. Поступила на мехмат МГУ и с ужасом обнаружила, что за год прочла всего 3 толстых книги. «Мадам Бовари», «Анну Каренину» и «Дипломата» Джеймса Олдриджа.
Чем был продиктован выбор идти на мехмат?
Я всегда любила математику, я мечтала с детства стать ученым, мечтала постичь бесконечность Вселенной. Я хотела быть астрономом.
Откуда это желание пришло? Рядом была ролевая модель?
Папа, сидящий за письменным столом. Причем, он сидел спиной к семье, лицом к окну. Мой папа — довольно известный ученый-юрист. Он любил математику, но в школе у него была не очень хорошая учительница, и папа пошел на юридический. У меня были математические способности, папа их развивал. Мы вместе решали задачки, я это очень любила, потом стала решать лучше папы. Кстати, уже во взрослом возрасте поняла, что ребенку с математическими способности легко быть круче всех, да и реализовать их нетрудно. Кроме ручки и бумажки ничего не нужно – ни сцены, ни стадиона, ни инструмента. Ребенок, способный в математике, был в классе царь и бог.
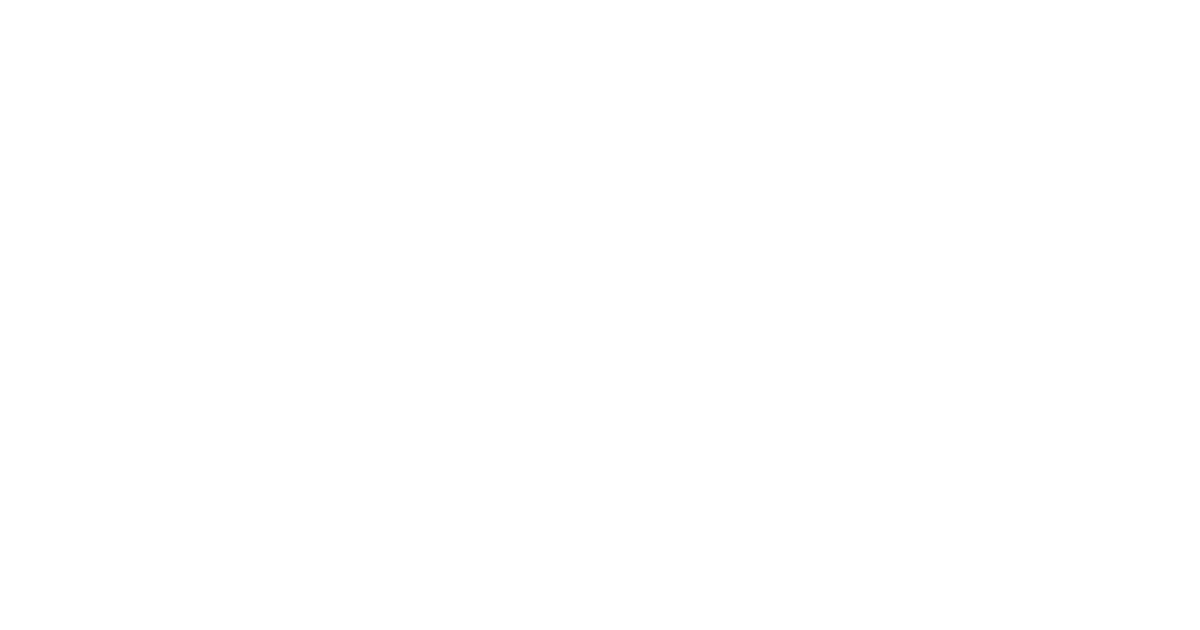
«Два писателя или ключи от чердака». Фрагмент
Со средней дочкой у меня проблемы. С той самой, сидя с которой в декрете я стриглась наголо. Она пишет сти-хи и прозу, отворачивает будильник циферблатом к стене и не интересуется оценками. Ее серые глаза от восторга становятся голубыми, а я не вижу в ее школьных тетрад-ках повода для восторга. Жена Майорова, Марина, при-советовала нам новую школу, где учатся в первом клас-се их Ромка и чмутовский старший сын. Там не проходят правила русского, не ставят оценки и сочиняют под музы-ку стихи. Там, на неведомых дорожках... директором тот, донкихотистый, а Чмутов преподает английский.
Мы уже многое перепробовали и решили, что хуже не будет. Я отправилась с дочерью на смотрины. В седь-мой класс. В середине учебного года.
Мы попали как раз на английский. Директор снимал урок на видео. Коллеги из Нижнего Тагила сидели в нор-ковых шапках у стены и перенимали опыт. Чмутов зашел ленивой походочкой, сигарета за ухом, на лбу хайратник. На доске красовался скабрезный стишок, сочиненный Чмутовым накануне. В стишке обыгрывалась двусмыс-ленная фамилия директора и употреблялись разные времена английских глаголов. Чмутов говорил нарас-пев, врастяжечку, поводя глазами. Глаза бликовали, как елочные шары, в глазах блестело предвкушение весе-лья. Урок был импровизацией: директору хотелось разо-браться в сложных английских временах — одновремен-но с детьми, за время урока, желательно раз и навсегда.
И продемонстрировать процесс понимания. Директор бе-гал по классу, пытаясь одолеть будущее в прошедшем, теребил бородку, кивал, перебивал, вновь бросался к до-ске и не догадывался, о чем стишок. Он не знал ключевое слово.
Я сидела рядом с Мариной Майоровой. Марина все аккуратно записывала, она специально ходит к Чмуто-ву на английский. Шевельнулась зависть в моей душе: сколько уже записано, сколько она всего знает! Марина шепотом объяснила, что Чмутов на прошлом уроке дал названия всех частей тела (показала картинку и подписи), и теперь дети называют директора «мистер Пьюбис». Сти-шок они уже разбирали, но мистер Пьюбис об этом не зна-ет, Чмутов подставляет его при гостях. Это розыгрыш.
Марина — редкая женщина. Во-первых, она удивитель-но красива. Во-вторых, так молода, что хочется считать ее девочкой. В-третьих, она скромна и целомудренна. Майо-ров дома все дни напролет рисует, а она читает ему вслух. Читает и прозу, и поэзию, а стихи моего Лёни Марина учит наизусть, и никто их столько не выучил, даже сам автор. Я думаю: в какой век ее поместить и в какую профессию?
И скатываюсь к киношной банальности — молодая като-лическая монахиня редкой красоты. Мне не нравилась чмутовская шутка про пиписечки, такие шутки смеши-ли меня в пять лет. Но строгая шейка Марины, ее стоячий воротничок, блокнот и руки прилежной ученицы... Это английский. Это просто английский. Пусть будет стыд-но тому, кто об этом дурно подумает.
К концу урока Мистер Пьюбис догадался, о чем речь, и стал выкручиваться как умел — завел речь про Урана и Гею, отрезанные гениталии и оплодотворение Земли. Потрясая томом энциклопедии, бормотал про секс и ду-ховность:
— И когда у девочек уже начались менструации, а у мальчиков поллюции...
Прозвенел звонок, и подростки ринулись вон из клас-са — на перемену. Мы с Мариной остались на месте, Чму-тов закружил рядом.
— Ну, что, матушка? Вот ведь как быват.
— Нам звонила твоя знакомая. Эта модель, — упрекну-ла Марина.
Он кивнул с довольным видом.
— Красивая девка. Ты никак ревнуешь?
Марина дернула плечиком. Чмутов встрепенулся.
— Маринушка, ты какой год замужем? Давно пора друг другу-то изменять.
— Ну, тут мы не найдем общий язык, — она уверенно улыбнулась.
Чмутов поскучнел и ушел курить.
Второй час был гораздо интереснее. Учитель кланялся в пояс, махал руками и стучал указкой. Говорил он только на английском, объяснял происхождение слов, заставлял искать рифмы, синонимы, подбирать звуковые ассоциа-ции. В радости хлопал себя по лбу, в отчаянии опрокиды-вал стулья. Знакомил с каждым новым словом, давал с ним подружиться, подергать за хвост и поссориться. Теперь я завидовала детям. Я хотела бы так учить язык или чтобы дочь моя так учила. Бог с ними, с шутками про мистера Пьюбиса.
— Ну что, — спросила я у своей Зойки по окончании представления, — будем переходить?
Она замешкалась.
— Надо еще посмотреть.
— Конечно, конечно, — замахал руками директор, — приходите, смотрите сколько хочется.
Я поняла, что он любит, когда смотрят. Мимо проплы-вал Чмутов, остановился рядом с Мариной, провел ладо-нью по волосам, скосил глаза и произнес грудным голо-сом, перевоплощаясь в гогеновскую таитянку:
— А, ты ревнуешь...
Мы уже многое перепробовали и решили, что хуже не будет. Я отправилась с дочерью на смотрины. В седь-мой класс. В середине учебного года.
Мы попали как раз на английский. Директор снимал урок на видео. Коллеги из Нижнего Тагила сидели в нор-ковых шапках у стены и перенимали опыт. Чмутов зашел ленивой походочкой, сигарета за ухом, на лбу хайратник. На доске красовался скабрезный стишок, сочиненный Чмутовым накануне. В стишке обыгрывалась двусмыс-ленная фамилия директора и употреблялись разные времена английских глаголов. Чмутов говорил нарас-пев, врастяжечку, поводя глазами. Глаза бликовали, как елочные шары, в глазах блестело предвкушение весе-лья. Урок был импровизацией: директору хотелось разо-браться в сложных английских временах — одновремен-но с детьми, за время урока, желательно раз и навсегда.
И продемонстрировать процесс понимания. Директор бе-гал по классу, пытаясь одолеть будущее в прошедшем, теребил бородку, кивал, перебивал, вновь бросался к до-ске и не догадывался, о чем стишок. Он не знал ключевое слово.
Я сидела рядом с Мариной Майоровой. Марина все аккуратно записывала, она специально ходит к Чмуто-ву на английский. Шевельнулась зависть в моей душе: сколько уже записано, сколько она всего знает! Марина шепотом объяснила, что Чмутов на прошлом уроке дал названия всех частей тела (показала картинку и подписи), и теперь дети называют директора «мистер Пьюбис». Сти-шок они уже разбирали, но мистер Пьюбис об этом не зна-ет, Чмутов подставляет его при гостях. Это розыгрыш.
Марина — редкая женщина. Во-первых, она удивитель-но красива. Во-вторых, так молода, что хочется считать ее девочкой. В-третьих, она скромна и целомудренна. Майо-ров дома все дни напролет рисует, а она читает ему вслух. Читает и прозу, и поэзию, а стихи моего Лёни Марина учит наизусть, и никто их столько не выучил, даже сам автор. Я думаю: в какой век ее поместить и в какую профессию?
И скатываюсь к киношной банальности — молодая като-лическая монахиня редкой красоты. Мне не нравилась чмутовская шутка про пиписечки, такие шутки смеши-ли меня в пять лет. Но строгая шейка Марины, ее стоячий воротничок, блокнот и руки прилежной ученицы... Это английский. Это просто английский. Пусть будет стыд-но тому, кто об этом дурно подумает.
К концу урока Мистер Пьюбис догадался, о чем речь, и стал выкручиваться как умел — завел речь про Урана и Гею, отрезанные гениталии и оплодотворение Земли. Потрясая томом энциклопедии, бормотал про секс и ду-ховность:
— И когда у девочек уже начались менструации, а у мальчиков поллюции...
Прозвенел звонок, и подростки ринулись вон из клас-са — на перемену. Мы с Мариной остались на месте, Чму-тов закружил рядом.
— Ну, что, матушка? Вот ведь как быват.
— Нам звонила твоя знакомая. Эта модель, — упрекну-ла Марина.
Он кивнул с довольным видом.
— Красивая девка. Ты никак ревнуешь?
Марина дернула плечиком. Чмутов встрепенулся.
— Маринушка, ты какой год замужем? Давно пора друг другу-то изменять.
— Ну, тут мы не найдем общий язык, — она уверенно улыбнулась.
Чмутов поскучнел и ушел курить.
Второй час был гораздо интереснее. Учитель кланялся в пояс, махал руками и стучал указкой. Говорил он только на английском, объяснял происхождение слов, заставлял искать рифмы, синонимы, подбирать звуковые ассоциа-ции. В радости хлопал себя по лбу, в отчаянии опрокиды-вал стулья. Знакомил с каждым новым словом, давал с ним подружиться, подергать за хвост и поссориться. Теперь я завидовала детям. Я хотела бы так учить язык или чтобы дочь моя так учила. Бог с ними, с шутками про мистера Пьюбиса.
— Ну что, — спросила я у своей Зойки по окончании представления, — будем переходить?
Она замешкалась.
— Надо еще посмотреть.
— Конечно, конечно, — замахал руками директор, — приходите, смотрите сколько хочется.
Я поняла, что он любит, когда смотрят. Мимо проплы-вал Чмутов, остановился рядом с Мариной, провел ладо-нью по волосам, скосил глаза и произнес грудным голо-сом, перевоплощаясь в гогеновскую таитянку:
— А, ты ревнуешь...
Математика и профильное образование помогли вашим текстам? Вы уже сказали, что у вас особое мышление, вы можете удерживать в голове большие массивы данных. Что еще? Ритм текста, его структура…
Да, безусловно. Математика помогла мне как писателю. Математика ведь очень разная. Есть, например, комбинаторика. Но я люблю матанализ, у меня лучше развито аналитическое мышление. Возможно, это помогает. Понимаете, я же живу внутри себя и другой никогда не была. И когда мне говорят: «Марина, ты все-таки математик. У тебя очень своеобразное мышление», я удивляюсь. Мне трудно судить — а как бывает иначе?
Что значит «жить внутри себя»?
Я же проживаю свои эмоции, и я с доверием отношусь к миру. Я вообще много кого люблю. О людях думаю заведомо хорошо. Никогда не подозреваю, что мне сейчас сделают что-то плохое. Или что мне завидуют. Или — что на меня косо смотрят. Это одна из причин, по которой я могу танцевать, хотя не очень умею это делать. Не жду подвоха. Не жду слов: «А вот лучше было бы спину выпрямить. Двигаться чуть изящнее».
То есть, вы открыты миру.
Да, я открыта. Я могу увидеть комичную ситуацию и передать ее в словах. Но, конечно, себя с таким сарказмом и иронией описать не могу: для меня мои желания и мои мотивы естественны. Для других людей — их желания и мотивы. При этом, человек думает, что посторонний не замечает, как он сфальшивил, соврал или он ковыряет в носу. Но это же все очень видно. И вот, когда ты об этом напишешь, человек дергается. Не все люди понимают, что я же такими их люблю. Как и меня кто-то любит не зависимо от удачного ракурса. Это же, как фото, сделанное в тот момент, когда никто не ждет. Человек смотрит на такое фото и говорит: «Боже, это не я. Что ты мне не сказал втянуть живот или встать как-то по-другому. Я же не такой в жизни, как на этой ужасной фотографии». Когда мы стоим перед зеркалом, мы всегда вытягиваемся, ищем красивую позу — чтобы нравиться себе. И вдруг человек видит какие-то недостатки, потому что их видит автор.
Осторожно, рядом писатель?
Да, и поэтому я настаиваю: описанный в романе герой — это никакой не портрет реального человека. Это то, как тебя увидела одна отдельно взятая камера в таком-то свете, в таком-то жанре. Может быть, это был мультфильм, а может быть, мелодрама или комикс, шарж, карикатура. То, что ты видишь в тексте — это не ты. В аннотации романа «Два писателя, или Ключи от чердака» сказано, что некоторые герои выведены под своими именами. Значит, в этих и только в этих персонажах я и хотела показать реальных людей. Например, Борис Рыжий почему-то же назван своим именем. За каждый описанный в тексте факт о Рыжем я ручаюсь — это достоверный факт. Во всяком случае, я помню именно так.
Я сразу же вспомнил «Записные книжки» Сергея Довлатова.
В каком-то смысле такая аналогия возможна. Когда Бориса Рыжего не стало, ко мне стали обращаться люди, которые готовили мемуары и собирали воспоминания о поэте. Мы с Борисом не были близко знакомы, но разговаривали по телефону довольно часто. Он мог читать стихи часами! А лично встретились только раз. Это случилось незадолго до его смерти — мы принимали его у себя дома. Очень мило болтали, и уходя Борис сказал: «А в следующий раз мы поговорим о стихах». А следующего раза уже не было.
И эти небольшие, но очень яркие эпизоды из жизни — их важно сохранить. Помню, как я пришла к подруге, а в это время Рыжий читал ей по телефону стихи. Она сказала: «Мариночка, послушай пока Борю», и стала затирать снег, который я нанесла. Мне было неудобно снимать сапоги и слушать, я отложила телефон в сторону и забыла о нем, а все это время трубка читала стихи голосом Бориса. А уже потом, не так уж и много времени спустя, мы за огромные деньги покупали у спекулянтов билеты в мастерскую Петра Фоменко на «Рыжего» – спектакль, состоящий исключительно из Бориных стихов. Рыжий был необыкновенной личностью, которая стала важной частью истории.
То есть этот роман — «автофикшн», как сейчас принято говорить?
Да, это художественное произведение, написанное на основе пережитых событий. Издатель мне говорит: это же надо решиться на такую откровенность! Но для меня это естественно.
Кто-то называет это «выходом из зоны комфорта». Считается, что писатель должен обнажиться, и на открытом сердце сам себя препарировать.
Но для меня откровенность — не выход из зоны комфорта. Единственное, что я могу охарактеризовать как «выход из зоны комфорта» — говорить человеку в лицо неприятное. Одно дело, когда ты это делаешь по какой-то бестактности и недоумию или увлекшись шуткой и острым словцом. Другое дело – осознанно, в тексте. Я не могу писать о борьбе хорошего с лучшим. Например, в романе моей героине нравится женатый писатель, и он постоянно всем рассказывает, какая у него жена-красавица. Любую женщину будут раздражает рассказы про красавицу, если это не она.
А вы чувствовали в себе эту ревность — когда рядом кто-то говорил такие слова о другой женщине.
Точно также, как я с детства не хотела стать писателям, я понимала, что не стану красавицей, меня в красавицы не прочили. Я была носатым ребенком. Но, конечно, любила красивые платьишки и, конечно, мечтала о таком: чтобы я зашла и все упали. Ну и что? Я и балериной мечтала быть, когда впервые балет увидела. Наверное, у меня был особый дар: я чувствовала, кем могу быть. Тем и хотела.
Возвращаясь к героине, которая, конечно же, альтер-эго автора: да, я писала Ирину с Марины Голубицкой — это же очевидно. Когда героиня первый раз встречает жену своего «объекта», она не видит ее красивой: и румяна той не идут, и выглядит устало и не молодо. Но разве бы я, Марина Голубицкая, стала бы открыто говорить: «Да ты посмотри, она не так уж и хороша». Нет конечно. Я же понимаю, что при этом выгляжу по-дурацки. И когда мне заявляют: «Ну конечно, что она может сказать о жене человека, в которого влюблена», это в общем-то правильно. Так и есть! Что это будет за роман, если героиня скажет: «А вот объективно, да, она такая красавица, она прекрасна. Не зря он всем про это рассказывал». Это же фальшь. Так не бывает. Я надеюсь, что по отношению к главной героине в тексте не меньше сарказма, чем по отношению к другим. Ну настолько, насколько человек способен смеяться над собой без самоуничижения.
Может быть настолько, насколько он способен увидеть себя со стороны? Ведь мы же видим себя искаженно.
Взгляд со стороны — это ведь тоже очень интересно. Иногда диву даешься, что люди о тебе думают. Ты не всегда с этим соглашаешься. Это может быть родная внучка, которая сейчас подросток. Может, ей надо о тебе так думать, чтобы про себя думать что-то другое. А может, вы правда настолько разные личности, что ты навсегда останешься для нее такой, как она о тебе говорит. Моя, например, недавно сказала, что я расистка и гомофобка.
В каком контексте?
Мне кажется, она просто ищет, за что бороться.
Сколько ей лет?
Сейчас уже 16. Причем я бы даже согласилась с тем, что я расистка, потому что я вижу, какой цвет кожи у человека. Мне нравится черная культура. То есть, я отличаю белый человек или черный. А вот с гомофобией у меня совсем плохо. У меня вообще нет никаких соображений на эту тему.
Это ярлыки, которые на нас навешивают.
Да. Например, мне иногда говорят: «Тебе лишь бы быть в центре внимания». А вот и нет. Но иногда мне кажется, что складывается неловкая ситуация, что людям становится скучно, поэтому надо их как-то развлечь.
Но когда собирается компания, у вас есть потребность сделать так, чтобы всем было хорошо?
Да, именно поэтому я и начинаю рассказывать истории. Возможно, людям было бы хорошо, если бы я помолчала. А мне все кажется, что наряду с угощением, должна еще угощать и собой – интеллектуально, например, что-то рассказывать. Я не боюсь быть смешной, но надоедливой быть не хочется. Вижу ли я себя со стороны объективно? Конечно же, нет. У меня есть подруги писательницы, и, бывает, я от них устаю. Мы встречаемся, начинается разговор, и вот я чувствую: пошел рассказ. Но я же тоже пришла поговорить! Или получить ответ на вопрос. В такие моменты, я порой отключаюсь от диалога. Но понимаю, что я такая же.
Возникла ли у вас эта «писательская деформация» после того, как вы стали писать, издаваться. Как у оператора, который смотрит фильм и видит все недостатки кадра.
Хотя и полагается говорить, что в моей книге «встреченный персонаж изменил судьбу героини», моя жизнь, на самом деле никак не изменилась. Судьба не изменилась. Я удивилась этому факту. Нет, я не думала о том, что свалится слава. Я просто считала: что-то же должно произойти? Но не произошло ровным счетом ничего. Конечно, я стала что-то понимать в творчестве, и некоторые люди хотят получить мою книгу с автографом. Но раньше я считала, что если человек становится писателем, в его жизни случается что-то особенное. Писатель был для меня каким-то волшебным существом.
Да, безусловно. Математика помогла мне как писателю. Математика ведь очень разная. Есть, например, комбинаторика. Но я люблю матанализ, у меня лучше развито аналитическое мышление. Возможно, это помогает. Понимаете, я же живу внутри себя и другой никогда не была. И когда мне говорят: «Марина, ты все-таки математик. У тебя очень своеобразное мышление», я удивляюсь. Мне трудно судить — а как бывает иначе?
Что значит «жить внутри себя»?
Я же проживаю свои эмоции, и я с доверием отношусь к миру. Я вообще много кого люблю. О людях думаю заведомо хорошо. Никогда не подозреваю, что мне сейчас сделают что-то плохое. Или что мне завидуют. Или — что на меня косо смотрят. Это одна из причин, по которой я могу танцевать, хотя не очень умею это делать. Не жду подвоха. Не жду слов: «А вот лучше было бы спину выпрямить. Двигаться чуть изящнее».
То есть, вы открыты миру.
Да, я открыта. Я могу увидеть комичную ситуацию и передать ее в словах. Но, конечно, себя с таким сарказмом и иронией описать не могу: для меня мои желания и мои мотивы естественны. Для других людей — их желания и мотивы. При этом, человек думает, что посторонний не замечает, как он сфальшивил, соврал или он ковыряет в носу. Но это же все очень видно. И вот, когда ты об этом напишешь, человек дергается. Не все люди понимают, что я же такими их люблю. Как и меня кто-то любит не зависимо от удачного ракурса. Это же, как фото, сделанное в тот момент, когда никто не ждет. Человек смотрит на такое фото и говорит: «Боже, это не я. Что ты мне не сказал втянуть живот или встать как-то по-другому. Я же не такой в жизни, как на этой ужасной фотографии». Когда мы стоим перед зеркалом, мы всегда вытягиваемся, ищем красивую позу — чтобы нравиться себе. И вдруг человек видит какие-то недостатки, потому что их видит автор.
Осторожно, рядом писатель?
Да, и поэтому я настаиваю: описанный в романе герой — это никакой не портрет реального человека. Это то, как тебя увидела одна отдельно взятая камера в таком-то свете, в таком-то жанре. Может быть, это был мультфильм, а может быть, мелодрама или комикс, шарж, карикатура. То, что ты видишь в тексте — это не ты. В аннотации романа «Два писателя, или Ключи от чердака» сказано, что некоторые герои выведены под своими именами. Значит, в этих и только в этих персонажах я и хотела показать реальных людей. Например, Борис Рыжий почему-то же назван своим именем. За каждый описанный в тексте факт о Рыжем я ручаюсь — это достоверный факт. Во всяком случае, я помню именно так.
Я сразу же вспомнил «Записные книжки» Сергея Довлатова.
В каком-то смысле такая аналогия возможна. Когда Бориса Рыжего не стало, ко мне стали обращаться люди, которые готовили мемуары и собирали воспоминания о поэте. Мы с Борисом не были близко знакомы, но разговаривали по телефону довольно часто. Он мог читать стихи часами! А лично встретились только раз. Это случилось незадолго до его смерти — мы принимали его у себя дома. Очень мило болтали, и уходя Борис сказал: «А в следующий раз мы поговорим о стихах». А следующего раза уже не было.
И эти небольшие, но очень яркие эпизоды из жизни — их важно сохранить. Помню, как я пришла к подруге, а в это время Рыжий читал ей по телефону стихи. Она сказала: «Мариночка, послушай пока Борю», и стала затирать снег, который я нанесла. Мне было неудобно снимать сапоги и слушать, я отложила телефон в сторону и забыла о нем, а все это время трубка читала стихи голосом Бориса. А уже потом, не так уж и много времени спустя, мы за огромные деньги покупали у спекулянтов билеты в мастерскую Петра Фоменко на «Рыжего» – спектакль, состоящий исключительно из Бориных стихов. Рыжий был необыкновенной личностью, которая стала важной частью истории.
То есть этот роман — «автофикшн», как сейчас принято говорить?
Да, это художественное произведение, написанное на основе пережитых событий. Издатель мне говорит: это же надо решиться на такую откровенность! Но для меня это естественно.
Кто-то называет это «выходом из зоны комфорта». Считается, что писатель должен обнажиться, и на открытом сердце сам себя препарировать.
Но для меня откровенность — не выход из зоны комфорта. Единственное, что я могу охарактеризовать как «выход из зоны комфорта» — говорить человеку в лицо неприятное. Одно дело, когда ты это делаешь по какой-то бестактности и недоумию или увлекшись шуткой и острым словцом. Другое дело – осознанно, в тексте. Я не могу писать о борьбе хорошего с лучшим. Например, в романе моей героине нравится женатый писатель, и он постоянно всем рассказывает, какая у него жена-красавица. Любую женщину будут раздражает рассказы про красавицу, если это не она.
А вы чувствовали в себе эту ревность — когда рядом кто-то говорил такие слова о другой женщине.
Точно также, как я с детства не хотела стать писателям, я понимала, что не стану красавицей, меня в красавицы не прочили. Я была носатым ребенком. Но, конечно, любила красивые платьишки и, конечно, мечтала о таком: чтобы я зашла и все упали. Ну и что? Я и балериной мечтала быть, когда впервые балет увидела. Наверное, у меня был особый дар: я чувствовала, кем могу быть. Тем и хотела.
Возвращаясь к героине, которая, конечно же, альтер-эго автора: да, я писала Ирину с Марины Голубицкой — это же очевидно. Когда героиня первый раз встречает жену своего «объекта», она не видит ее красивой: и румяна той не идут, и выглядит устало и не молодо. Но разве бы я, Марина Голубицкая, стала бы открыто говорить: «Да ты посмотри, она не так уж и хороша». Нет конечно. Я же понимаю, что при этом выгляжу по-дурацки. И когда мне заявляют: «Ну конечно, что она может сказать о жене человека, в которого влюблена», это в общем-то правильно. Так и есть! Что это будет за роман, если героиня скажет: «А вот объективно, да, она такая красавица, она прекрасна. Не зря он всем про это рассказывал». Это же фальшь. Так не бывает. Я надеюсь, что по отношению к главной героине в тексте не меньше сарказма, чем по отношению к другим. Ну настолько, насколько человек способен смеяться над собой без самоуничижения.
Может быть настолько, насколько он способен увидеть себя со стороны? Ведь мы же видим себя искаженно.
Взгляд со стороны — это ведь тоже очень интересно. Иногда диву даешься, что люди о тебе думают. Ты не всегда с этим соглашаешься. Это может быть родная внучка, которая сейчас подросток. Может, ей надо о тебе так думать, чтобы про себя думать что-то другое. А может, вы правда настолько разные личности, что ты навсегда останешься для нее такой, как она о тебе говорит. Моя, например, недавно сказала, что я расистка и гомофобка.
В каком контексте?
Мне кажется, она просто ищет, за что бороться.
Сколько ей лет?
Сейчас уже 16. Причем я бы даже согласилась с тем, что я расистка, потому что я вижу, какой цвет кожи у человека. Мне нравится черная культура. То есть, я отличаю белый человек или черный. А вот с гомофобией у меня совсем плохо. У меня вообще нет никаких соображений на эту тему.
Это ярлыки, которые на нас навешивают.
Да. Например, мне иногда говорят: «Тебе лишь бы быть в центре внимания». А вот и нет. Но иногда мне кажется, что складывается неловкая ситуация, что людям становится скучно, поэтому надо их как-то развлечь.
Но когда собирается компания, у вас есть потребность сделать так, чтобы всем было хорошо?
Да, именно поэтому я и начинаю рассказывать истории. Возможно, людям было бы хорошо, если бы я помолчала. А мне все кажется, что наряду с угощением, должна еще угощать и собой – интеллектуально, например, что-то рассказывать. Я не боюсь быть смешной, но надоедливой быть не хочется. Вижу ли я себя со стороны объективно? Конечно же, нет. У меня есть подруги писательницы, и, бывает, я от них устаю. Мы встречаемся, начинается разговор, и вот я чувствую: пошел рассказ. Но я же тоже пришла поговорить! Или получить ответ на вопрос. В такие моменты, я порой отключаюсь от диалога. Но понимаю, что я такая же.
Возникла ли у вас эта «писательская деформация» после того, как вы стали писать, издаваться. Как у оператора, который смотрит фильм и видит все недостатки кадра.
Хотя и полагается говорить, что в моей книге «встреченный персонаж изменил судьбу героини», моя жизнь, на самом деле никак не изменилась. Судьба не изменилась. Я удивилась этому факту. Нет, я не думала о том, что свалится слава. Я просто считала: что-то же должно произойти? Но не произошло ровным счетом ничего. Конечно, я стала что-то понимать в творчестве, и некоторые люди хотят получить мою книгу с автографом. Но раньше я считала, что если человек становится писателем, в его жизни случается что-то особенное. Писатель был для меня каким-то волшебным существом.
Раньше я считала, что если человек становится писателем, в его жизни случается что-то особенное. Писатель был для меня каким-то волшебным существом.
А потом магия развеялась? И когда мы открыли платяной шкаф, там оказалась обычная стена, и никакого прохода в волшебную Нарнию?
Дело не в платяном шкафу. А в том, что платье, висящее в шкафу, никоим образом тебя не преображает. Может быть, если бы я стала очень-известным-человеком, все было бы иначе. Но у меня такого нет. Если бы я была коммерческим писателем, я бы возможно думала: так, из этой ситуации можно сделать что-нибудь стоящее, а вот это приспособить вот сюда. И все-таки я сейчас сажусь за третью книгу. Причем, рассказы, написанные для нее, сгорели на жёстком диске. Это очень грустно.
Может быть им просто не нужно было попадать в новую книгу? Говорят же: «великие рукописи не горят».
Знаете, там хорошие куски были. Очень жалко. Но с другой стороны — чего только в нашей жизни не пропадало. Поэтому я запретила себе об этом плакать.
Если в жизни ничего не изменилось, была вообще ли потребность, чтобы что-то изменилось? Может быть ее и не было вовсе?
Может быть, вы правы. Но суть вот в чем: когда я только начинала писать, первое мое удивление было в этом «ожоге творчества». Что это такое? Радость. Необъяснимая радость. Счастье. Опьяняющая свобода. И... рабство, зависимость от этой свободы. Ты становишься рабом этого счастья.
То есть творчество — это зависимость.
Да, безумная, всепоглощающая зависимость. Я пришла в ужас: а как же живут люди, которые только этим хотят заниматься? Которым дан такой дар, что они ничего другого делать не могут, а главное — не имеют права? В тексте есть сцена, где героиня обсуждает эту тему с одним из героев. Он говорит: «И представь, что за это не платят». Ну и что? Когда ты одержим, ты хочешь заниматься только этим.
То есть это непреодолимая внутренняя потребность?
Да, абсолютно. Ты не славы хочешь, не денег. А этой всепоглощающей свободы. Потому что ты уже получил этот «ожог». В детстве я хотела быть знаменитой, а потом — нет. Ты взрослеешь. Встречаешь известных людей где-нибудь в самолете — и видишь, что они вынуждены скрываться от мира. Публичность — бремя. И, однако же, я хочу, чтобы мои книги читали: было бы лукавством сказать, что это не так. Но дело даже не в этом. Дело в том, что, как говорит Чмутов, ты уже откусила отравленного яблочка. В том, что хочешь заниматься только этим. Муж мне советовал: брось все, если хочешь. Но я не бросила. Наоборот, — пошла заведовать кафедрой математики, как только мне предложили. Чтобы отгородиться от этой писательской зависимости.
Почему?
Испугалась.
Чего?
Возможно, того, что дар может оказаться не таким великим. Ну и опять же я поняла, что не готова полностью отгородиться от мира. У меня же семья, и я не хотела становиться обезумевшей затворницей с горящими глазами.
Я вспомнил Селинджера, который именно так и писал после того, как был издан роман «Над пропастью во ржи» — в одиночестве, с полной одержимостью.
Да. А мне вспоминается Софья Ковалевская, великий математик, которая забывала имя своей дочери. Я не знаю, насколько это достоверно, мне рассказывал друг-коллега. В науке ведь тоже немало людей, с точки зрения обывателя ненормальных. Об этом, кстати, хорошо написал Набоков в «Защите Лужина». Это роман о шахматисте, и в нем гениально показано, как вовлеченность в абстракцию уводит из реальной жизни. Но я-то хотела жить, как другой набоковский персонаж, профессор Пнин. Иметь свой маленький семинарчик, поселиться в университетском коттедже, ходить на занятия через парк...
Возможно, я испугалась творческой одержимости, того, что «дозы» будет все время не хватать. Ну, перестану читать лекции, запрусь у себя в комнате и забуду о том, что вокруг существует реальный мир. У меня есть друг, художник, прототип одного из персонажей романа. Очень негостеприимный человек. Я на него все время злилась, потому что у меня в Свердловске и так было мало друзей. Ты случайно зайдешь, по московской привычке, а у него такое лицо…
«Боже, вы опять меня отвлекаете».
Да. Потому что день уходит. Уходит свет.
Но при этом ожог творчества, о котором мы говорим, оставил в вас свой след?
Да, безусловно. Это не исчезает. После того, как была издана первая книга, повесть и рассказы, я много лет ничего не писала. Была пауза, продиктованная тем, что тебя захватывает жизнь, захватывают не менее яркие впечатления, но ты не хочешь переплавлять их в литературу. Правда, в какой-то момент все равно возвращаешься к тесту и начинаешь набивать новые слова. Сейчас, когда вышел роман, у меня есть надежда, что я сделаю третью книгу. Она уже наполовину готова.
Так это все-таки зависимость?
В какой-то мере. Мне хочется продолжать. После первой книги я себя чувствовала неуверенно. Хотя «Вот и вся любовь» была легко написана и легко издана. Но я почти не получила обратной связи, отзывов было мало, тираж быстро разошелся, мое издательство закрылось, допечатывать новые экземпляры уже не было возможности. И у меня возникли сомнения — а нужно ли.
При этом я видела судьбы поэтов, которые родились быть поэтами. Перед ними не стоял вопрос: печатают их или нет. Они писали, потому что не могли иначе.
Биологическая потребность — как дышать.
Да, один поэт говорил: «Богу интересно, как каждая искра сгорает». А у меня не было такой уверенности в себе. Чистая психология.
Люди творческие вообще болезненно воспринимают, как реагируют на их творчество.
Неуверенность – это всегда вредно, и в науке, и в творчестве, во всем. Когда ты сам себя недооцениваешь — это очень вредно.
Вам удалось это в себе побороть?
Мне кажется, что да. Хотя вот что удивительно: вы видите перед собой вполне солидную женщину, но я внутри другая. Мне говорят: кончай ты уже это ученичество.
Но это же хорошо — сохранить в себе эту внутреннюю искру?
Да. Но иногда ты должен понимать, что ты уже взрослый, зрелый человек.
Есть мнение, что зрелость — это хорошо для творчества. Когда я делал интервью с Евгением Водолазкиным, он сказал: «Начинающие авторы боятся писать просто — и начинают с верхней фа. Они боятся быть банальными — и сразу переходят на крик. Но рано или поздно они понимают, что никого здесь не перекричишь, и начинают петь спокойно. И вот тогда, научившись нормальному пению, они время от времени пробуют высокие ноты. Но это уже те ноты, которые родились изнутри, а не от чтения Набокова, Платонова или Саши Соколова». Он говорил, в частности и о том, что жизненный опыт — тот фундамент, на котором стоит текст, что проникает в сердце читателя.
Да, это так.
Может быть, сейчас время накопления нового материала?
Может быть. Хотя я очень жалею — не буду скрывать, что на каком-то этапе жизни у меня не хватило уверенности в себе: больше писать, записывать истории, которые вижу, которые приходят извне и изнутри. И дело не в памяти, не в том, что я не могу воспроизвести ситуации из прошлого. Теперь у меня нет такого интереса к людям, как был раньше. Истории есть и сейчас. Но с годами я поняла, что добро, увы, не победит зло – правда, бороться нужно. Стараться. С годами ты начинаешь разочаровываться в человечестве – а раньше я так не любила, когда об этом говорили другие! Конечно, замечательных людей по-прежнему много. Наверное, я опасаюсь лезть куда-то вглубь.
Вглубь себя или вглубь вообще всего?
В себе я ничего такого страшного не нахожу. Иногда у меня, конечно, бывают дни, когда я с ужасом думаю: боже, я-то думала, я хорошая, а столько плохого людям сделала. Написала такой вот текст, кого-то обидела. Начинаю думать: я плохая. А хочу-то я быть хорошей!
Но писатель эгоцентричен по сути. Он все делает все только для себя, разве не так?
В названии романа, о котором мы сейчас говорим упомянуты «два писателя». Один из них — главный персонаж Чмутов. Он всегда вопил: «Писателю можно все!» Героиня с ним категорически не соглашалась. Но когда я редактировала роман, поймала себя на мысли: Чмутов прав — писателю можно все. Я отношусь с уважением и с сочувствием к тем людям, которые готовы бросить в топку все во имя того, чтобы творить.
Подводя итог нашей беседе: ваша жизнь — это гармоничное сосуществование всех этих альтер-эго — писателя, женщины, мамы, математика...
Скорее всего, так и есть.
Дело не в платяном шкафу. А в том, что платье, висящее в шкафу, никоим образом тебя не преображает. Может быть, если бы я стала очень-известным-человеком, все было бы иначе. Но у меня такого нет. Если бы я была коммерческим писателем, я бы возможно думала: так, из этой ситуации можно сделать что-нибудь стоящее, а вот это приспособить вот сюда. И все-таки я сейчас сажусь за третью книгу. Причем, рассказы, написанные для нее, сгорели на жёстком диске. Это очень грустно.
Может быть им просто не нужно было попадать в новую книгу? Говорят же: «великие рукописи не горят».
Знаете, там хорошие куски были. Очень жалко. Но с другой стороны — чего только в нашей жизни не пропадало. Поэтому я запретила себе об этом плакать.
Если в жизни ничего не изменилось, была вообще ли потребность, чтобы что-то изменилось? Может быть ее и не было вовсе?
Может быть, вы правы. Но суть вот в чем: когда я только начинала писать, первое мое удивление было в этом «ожоге творчества». Что это такое? Радость. Необъяснимая радость. Счастье. Опьяняющая свобода. И... рабство, зависимость от этой свободы. Ты становишься рабом этого счастья.
То есть творчество — это зависимость.
Да, безумная, всепоглощающая зависимость. Я пришла в ужас: а как же живут люди, которые только этим хотят заниматься? Которым дан такой дар, что они ничего другого делать не могут, а главное — не имеют права? В тексте есть сцена, где героиня обсуждает эту тему с одним из героев. Он говорит: «И представь, что за это не платят». Ну и что? Когда ты одержим, ты хочешь заниматься только этим.
То есть это непреодолимая внутренняя потребность?
Да, абсолютно. Ты не славы хочешь, не денег. А этой всепоглощающей свободы. Потому что ты уже получил этот «ожог». В детстве я хотела быть знаменитой, а потом — нет. Ты взрослеешь. Встречаешь известных людей где-нибудь в самолете — и видишь, что они вынуждены скрываться от мира. Публичность — бремя. И, однако же, я хочу, чтобы мои книги читали: было бы лукавством сказать, что это не так. Но дело даже не в этом. Дело в том, что, как говорит Чмутов, ты уже откусила отравленного яблочка. В том, что хочешь заниматься только этим. Муж мне советовал: брось все, если хочешь. Но я не бросила. Наоборот, — пошла заведовать кафедрой математики, как только мне предложили. Чтобы отгородиться от этой писательской зависимости.
Почему?
Испугалась.
Чего?
Возможно, того, что дар может оказаться не таким великим. Ну и опять же я поняла, что не готова полностью отгородиться от мира. У меня же семья, и я не хотела становиться обезумевшей затворницей с горящими глазами.
Я вспомнил Селинджера, который именно так и писал после того, как был издан роман «Над пропастью во ржи» — в одиночестве, с полной одержимостью.
Да. А мне вспоминается Софья Ковалевская, великий математик, которая забывала имя своей дочери. Я не знаю, насколько это достоверно, мне рассказывал друг-коллега. В науке ведь тоже немало людей, с точки зрения обывателя ненормальных. Об этом, кстати, хорошо написал Набоков в «Защите Лужина». Это роман о шахматисте, и в нем гениально показано, как вовлеченность в абстракцию уводит из реальной жизни. Но я-то хотела жить, как другой набоковский персонаж, профессор Пнин. Иметь свой маленький семинарчик, поселиться в университетском коттедже, ходить на занятия через парк...
Возможно, я испугалась творческой одержимости, того, что «дозы» будет все время не хватать. Ну, перестану читать лекции, запрусь у себя в комнате и забуду о том, что вокруг существует реальный мир. У меня есть друг, художник, прототип одного из персонажей романа. Очень негостеприимный человек. Я на него все время злилась, потому что у меня в Свердловске и так было мало друзей. Ты случайно зайдешь, по московской привычке, а у него такое лицо…
«Боже, вы опять меня отвлекаете».
Да. Потому что день уходит. Уходит свет.
Но при этом ожог творчества, о котором мы говорим, оставил в вас свой след?
Да, безусловно. Это не исчезает. После того, как была издана первая книга, повесть и рассказы, я много лет ничего не писала. Была пауза, продиктованная тем, что тебя захватывает жизнь, захватывают не менее яркие впечатления, но ты не хочешь переплавлять их в литературу. Правда, в какой-то момент все равно возвращаешься к тесту и начинаешь набивать новые слова. Сейчас, когда вышел роман, у меня есть надежда, что я сделаю третью книгу. Она уже наполовину готова.
Так это все-таки зависимость?
В какой-то мере. Мне хочется продолжать. После первой книги я себя чувствовала неуверенно. Хотя «Вот и вся любовь» была легко написана и легко издана. Но я почти не получила обратной связи, отзывов было мало, тираж быстро разошелся, мое издательство закрылось, допечатывать новые экземпляры уже не было возможности. И у меня возникли сомнения — а нужно ли.
При этом я видела судьбы поэтов, которые родились быть поэтами. Перед ними не стоял вопрос: печатают их или нет. Они писали, потому что не могли иначе.
Биологическая потребность — как дышать.
Да, один поэт говорил: «Богу интересно, как каждая искра сгорает». А у меня не было такой уверенности в себе. Чистая психология.
Люди творческие вообще болезненно воспринимают, как реагируют на их творчество.
Неуверенность – это всегда вредно, и в науке, и в творчестве, во всем. Когда ты сам себя недооцениваешь — это очень вредно.
Вам удалось это в себе побороть?
Мне кажется, что да. Хотя вот что удивительно: вы видите перед собой вполне солидную женщину, но я внутри другая. Мне говорят: кончай ты уже это ученичество.
Но это же хорошо — сохранить в себе эту внутреннюю искру?
Да. Но иногда ты должен понимать, что ты уже взрослый, зрелый человек.
Есть мнение, что зрелость — это хорошо для творчества. Когда я делал интервью с Евгением Водолазкиным, он сказал: «Начинающие авторы боятся писать просто — и начинают с верхней фа. Они боятся быть банальными — и сразу переходят на крик. Но рано или поздно они понимают, что никого здесь не перекричишь, и начинают петь спокойно. И вот тогда, научившись нормальному пению, они время от времени пробуют высокие ноты. Но это уже те ноты, которые родились изнутри, а не от чтения Набокова, Платонова или Саши Соколова». Он говорил, в частности и о том, что жизненный опыт — тот фундамент, на котором стоит текст, что проникает в сердце читателя.
Да, это так.
Может быть, сейчас время накопления нового материала?
Может быть. Хотя я очень жалею — не буду скрывать, что на каком-то этапе жизни у меня не хватило уверенности в себе: больше писать, записывать истории, которые вижу, которые приходят извне и изнутри. И дело не в памяти, не в том, что я не могу воспроизвести ситуации из прошлого. Теперь у меня нет такого интереса к людям, как был раньше. Истории есть и сейчас. Но с годами я поняла, что добро, увы, не победит зло – правда, бороться нужно. Стараться. С годами ты начинаешь разочаровываться в человечестве – а раньше я так не любила, когда об этом говорили другие! Конечно, замечательных людей по-прежнему много. Наверное, я опасаюсь лезть куда-то вглубь.
Вглубь себя или вглубь вообще всего?
В себе я ничего такого страшного не нахожу. Иногда у меня, конечно, бывают дни, когда я с ужасом думаю: боже, я-то думала, я хорошая, а столько плохого людям сделала. Написала такой вот текст, кого-то обидела. Начинаю думать: я плохая. А хочу-то я быть хорошей!
Но писатель эгоцентричен по сути. Он все делает все только для себя, разве не так?
В названии романа, о котором мы сейчас говорим упомянуты «два писателя». Один из них — главный персонаж Чмутов. Он всегда вопил: «Писателю можно все!» Героиня с ним категорически не соглашалась. Но когда я редактировала роман, поймала себя на мысли: Чмутов прав — писателю можно все. Я отношусь с уважением и с сочувствием к тем людям, которые готовы бросить в топку все во имя того, чтобы творить.
Подводя итог нашей беседе: ваша жизнь — это гармоничное сосуществование всех этих альтер-эго — писателя, женщины, мамы, математика...
Скорее всего, так и есть.
